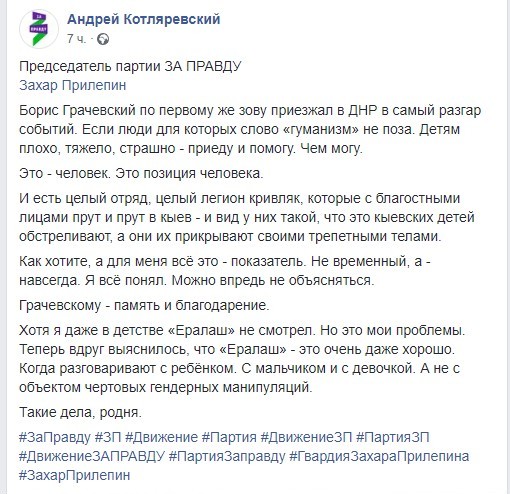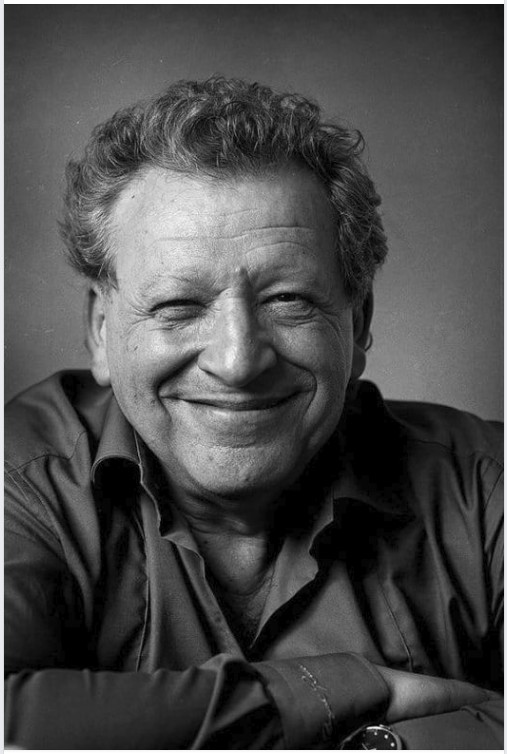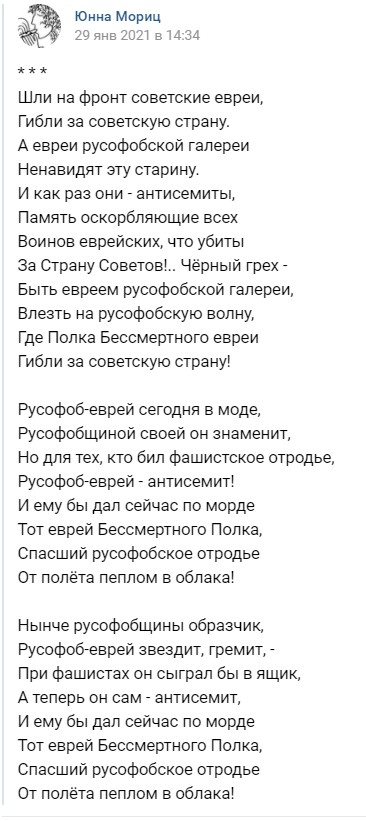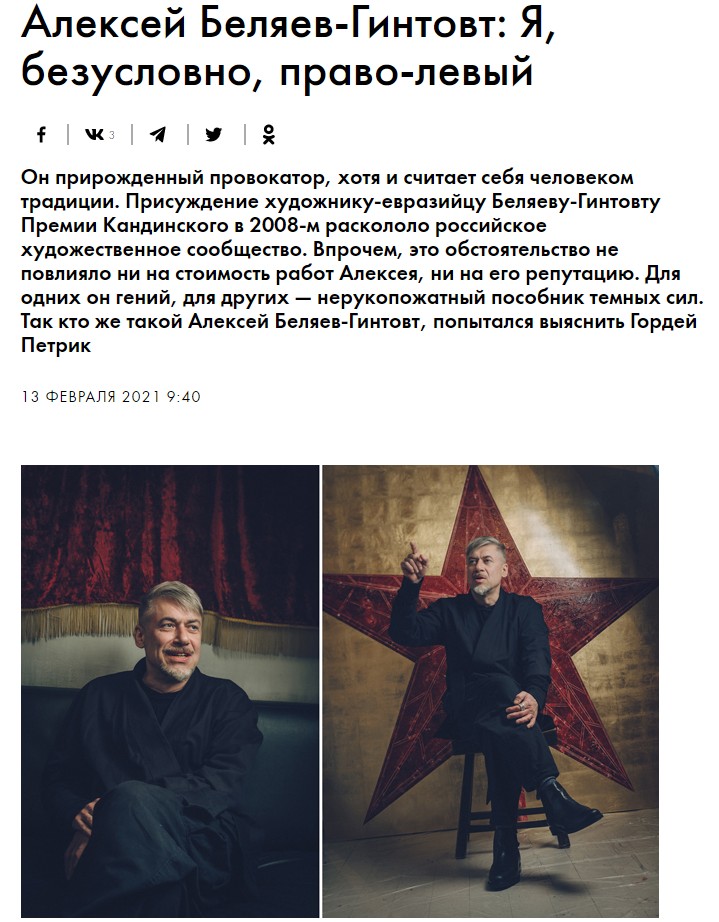| [ Обновленные темы · Новые сообщения · · Правила форума · Поиск · RSS ] |
| Форум Беседка "Тёрка" «Наша история» - вчера, сегодня, завтра Искусство принадлежит народу. (Наша история в произведениях российских и советских авторов.) |
| Искусство принадлежит народу. | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
| |||




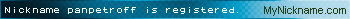





 У меня подруга врач, злится при одном упоминании о Малышевой. А мама её смотрит.
У меня подруга врач, злится при одном упоминании о Малышевой. А мама её смотрит.